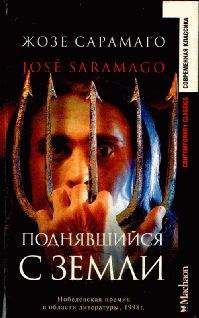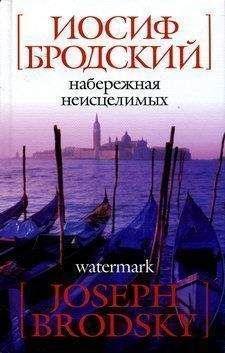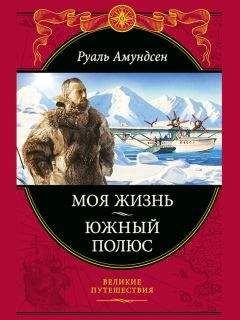Произошло это так. Возникшая где-то в середине XVIII века площадь была посвящена Людовику XV, конная статуя которого возвышалась в ее центре и была свергнута во время Французской революции. Вот тут-то восставший народ и установил на месте статуи гильотину, дав площади имя Революции. Именно здесь были казнены Людовик XVI (жестокая игра судьбы: погибнуть на площади, названной именем своего предшественника) и Мария-Антуанетта, а затем нож гильотины просвистел и над головами вождей революции. И лишь после этого площадь Революции была переименована в площадь Согласия (возможно, этим названием подчеркивалось, что люди ужаснулись пролитой крови и пришли к примирению); теперь это красивейшая и самая главная площадь Парижа — Place de la Concorde.
А на площади Республики, где я провожу время, особых исторических событий не происходило, и была она создана после всех революций, правда, своей прямоугольной формой напоминает учебный плац для войсковых частей, призванных подавлять народные волнения.
Я рассматриваю статую Республики — дородную женскую фигуру в лавровом венке с оливковой веткой мира в поднятой руке, у ног которой, вокруг пьедестала, расположились, как близкие подруги, женские фигуры с факелами и знаменами в руках, символизирующие Свободу, Равенство и Братство, а внизу — бронзовый, совсем позеленевший от старости лев, в окружении барельефов, отображающих события из истории Франции.
А тем временем сегодняшняя история выходит на площадь в буквальном смысле слова: слышится громкий барабанный бой, звучат клаксоны автомобилей, и со стороны бульвара Вольтера появляется колонна демонстрантов, развеваются знамена, из мегафона летят лозунги о свободе, равенстве и социальных правах...
Идут и белые, и цветные, а в конце колонны — курды, требующие освободить своих собратьев из турецких тюрем. В общем, вот такая смешанная демонстрация протеста, движение которой четко направляют полицейские-регулировщики. Значит, демонстрация разрешена. А вокруг площади стоят запечатанные урны, чтобы террористы не подложили бомбу.
Демонстранты уходят, и площадь начинает жить своей привычной жизнью. Из магазинчика «Тати» (Сеть таких недорогих магазинов разбросана по всему городу, их название как будто бы пошло от первого владельца — русского — из рода Татищевых.) вываливается целая толпа чернокожих покупательниц. Выходцев из африканских и азиатских стран проживает в центре столицы мало, они селятся в «своих» кварталах.
Так есть целые кварталы, где обитают китайцы, — там все отражает их образ жизни: иероглифы на стенах, ресторанчики китайской кухни и прочее; соблюдаются национальные праздники и обычаи. В Бельвиле (Belleville) — бывшем рабочем квартале, где в кабачках когда-то пели Эдит Пиаф и Морис Шевалье, сейчас оседают переселенцы из Центральной и Северной Африки, Азии и даже с Антильских островов. Когда я бродил по таким кварталам, где магазинчики и развалы дешевых, ношеных вещей предназначены для новых жителей, я почти не встречал коренных парижан. Раз мелькнула старушка, вышедшая с беленьким пуделем. Парижане тут не бывают: одни побаиваются появляться в подобных местах, другие даже не слышали о них или не хотят говорить. Натура у французов деликатная, они не всегда склонны открыто высказать правду о своей жизни, хотя для всех очевидно, что увеличивающийся приток переселенцев усложняет и без того непростые проблемы Парижа.
— Впрочем, эти проблемы не только у нас, но и в Берлине, и в Лондоне, растет преступность из-за притока переселенцев, — сказал мне высокий старик, прогуливавший в скверике овчарку. — Ну а дела до этого никому нет, вот и толкают молодежь к Ле Пену.
Он безнадежно махнул рукой и отправился в ближайшее кафе, где пил свой чай, а собака лежала у его ног.
Поздним вечером площадь затихает, закрылись магазинчики, из дешевого кафе «Квик» выходит компания ребят-рокеров, они пересчитывают оставшиеся франки — собираются отправиться на своих мотоциклах в ближайшую дискотеку.
И тут на краешек моей скамейки присаживается Пьер. Он не из тех французов, о которых один давний путешественник написал, что «вы еще не кончили вопроса, а он сказал свой ответ, поклонился и ушел». Мы с ним познакомились вчера, когда на повороте с площади юркий автомобиль сбил женщину, и вокруг сразу же, как на любой московской улице, образовалась «ахающая» и горячо обсуждающая происшествие толпа. Только человек с жиденькой эспаньолкой и темными волосами, ниспадавшими волной из-под шляпы на светлый плащ, стоял в сторонке и ожидающе поглядывал в сторону магазина «Тати». Там находился полицейский с радиотелефоном, и оттуда вынырнула красная машина, похожая на пожарную.
— Кто это? — спросил я человека с эспаньолкой, когда шустрые ребята в синих комбинезонах выскочили из машины.
— «Поппье-сапер», они оказывают первую медицинскую помощь, — ответил он. И представился, приподняв шляпу: — Пьер Лаваль.
Так вот, оказывается, как выглядят «саперы-пожарные», о которых я уже был наслышан. Мы не успели сказать и двух слов, как санитары притащили пластиковый мешок, уложили пострадавшую, внесли в машину и укатили, унося за собой вой сирены.
— Быстро! Да? — произнес Пьер. — Они спасли моего дядюшку Альбера, когда тот не захотел жить на пособие и бросился под машину.
Я никак не мог определить, был ли Пьер настоящим клошаром или просто бродяжничал, но что он при своей беспокойной жизни не оставил гурманских замашек — это точно. Как и вчера, раскладывая аккуратно на скамейке (конечно, подложив сначала целлофановый пакет и бумажные салфетки) ломтики колбасы и сыра, он просвещал меня, что и как подают в парижских ресторанах.
— Вы знаете, что в самом дорогом из них, в «Серебряной башне» около Нотр-Дама подают номерную утку? Нет? — Он обрадовался моей неосведомленности, и продолжил: — Со времени основания этого ресторана, то есть уже несколько веков, ведется нумерация фирменного блюда — фаршированной утки. Вы обгладываете косточки утки, конечно, необыкновенно вкусной и, кроме того, увозите с собой памятный «документик» с номером лично вами съеденной птицы. Ну что же, «закуска» готова, — произнес Пьер понравившееся ему вчера русское слово.
Я достал из сумки фляжку с «Московской» и наполнил пластмассовые стаканчики, прихваченные мною из отеля.
— Будем здоровы! — поднял я свой «бокал».
— Сайте! — ответил Пьер.
Мы выпили, с удовольствием закусили и тут обнаружили, что в скверике расположилась еще одна компания. Двое мужчин угощали женщину. Пили они совсем не по-французски, а «из горла», как у нас выражаются. Пьер с гримасой отвращения смотрел на это «пиршество», не отвечающее его тонкой натуре, потом не выдержал и плюнул.
И мы пошли гулять по Парижу в сторону расцвеченных Елисейских полей, а следом неслась тихая мелодия шарманки и по-прежнему в золотом сверкании кружилась карусель.
Гениальная причуда инженера Эйфеля
Когда я созерцал ажурную башню, стоя у ее подножия, мне и в голову не приходило что-то критиковать, хотя я ощущал какую-то неловкость, подавляя невольно возникавшую мыслишку: «Зачем это железное сооружение воздвигли в центре Парижа?»
Конечно, башня, названная по имени своего создателя Эйфеля, — несомненное чудо инженерной мысли (Ее технические данные поражают: более 15 тысяч металлических деталей, соединенных двумя с лишним миллионами заклепок, — ничего себе железное кружево в 7 тысяч тонн, покоящееся на огромных четырех пилонах, но оказывающее на землю не больше давления, чем человек сидя на стуле — 4 кг на квадратный сантиметр.), достойное украшение Всемирной выставки 1889 года. Однако вокруг этого самого высокого по тем временам сооружения в мире (320 метров) разразился, как известно, настоящий скандал. Не могу удержаться, чтобы не процитировать один документ.
«Мы протестуем против этой колонны, обитой листовым железом на болтах, против этой нелепой и вызывающей головокружение фабричной трубы, устанавливаемой во славу вандализма промышленных предприятий. Сооружение в самом центре Парижа этой бесполезной и чудовищной башни Эйфеля есть не что иное, как профанация...»
Этот протест подписали композитор Шарль Гуно, писатели Александр Дюма, Ги де Мопассан и многие другие выдающиеся люди. Среди них — Шарль Гарнье.
Возможно, если бы я как-то днем, назначив свидание одному человеку, не провел около часа на ступенях, ведущих к центральному входу Гранд-Опера, то, читая письмо-протест, не обратил бы внимания на фамилию Гарнье. Но когда я столько времени вышагивал вдоль пышного фасада оперного театра, не запомнить фамилию его архитектора было просто невозможно. Гарнье построил здание Гранд-Опера при Наполеоне III, полностью соблюдая принятую тогда эстетику. Отсюда и богатый декор, и колонны, и статуи, и барельефы... А Эйфелева башня создавалась в годы промышленной революции, когда инженерная мысль вторгалась в искусство, стараясь преобразовать его в духе времени, когда стекло и сталь открыли новые возможности. Да, новые времена — новые песни...